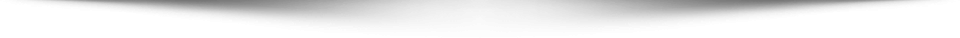В стороне далекой от родного края
Снится мне приволье тихих деревень,
В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни — и апрельский день.
Иван Бунин этими стихами передал и чувства каждого из нас, когда мы вдалеке от отчего дома — душа наша остаётся с родиной, и ничего с этим не поделать. Так устроен человек. Знаю многих людей, кто даже переселился в другую страну, а снова и снова в мечтах своих возвращается в родные пенаты. Одноклассница моя Надежда, что давно живёт в Европе, постоянно и приезжает, и переписывается с родными и знакомыми, интересуясь абсолютно всем. Даже отдыхая на престижных курортах, спрашивает, а как там Челкар, наше маленькое Кокчетавское море? Все такие же красивые там закаты? И лучшая подруга дочери, Айслу, что этим летом вышла замуж и уехала к мужу в Германию, тоже непрестанно со всеми на связи: родное, оно — навсегда. Вот и соседка по дому шутит, что общается с дочерью постоянно, будто она рядом, хоть и в другой стране.
Так устроена жизнь: люди куда-то едут в поисках своей судьбы, переезжают, а тоска по родине остаётся.
На севере Казахстана много переселенцев из самых разных мест и стран. Мои предки тоже из них. В самом начале прошлого века, собрав свой нехитрый скарб и детей, ехали они от цветущих садов Украины в неизведанную степь Казахстана, ехали на подводах, большими семьями. Много в те годы людей переехало сюда — было такое «великое» переселение тогда, и немало людей на него откликнулось. Среди них были и шесть братьев моего деда, расселились по разным деревням и станицам, построили дома, завели хозяйство, так и зажили…
Хотя, конечно, родина осталась в душе у каждого. О ней рассказывали детям и внукам, ее подобие пытались придумать здесь — разводили сады, огороды, избы строили наподобие украинских хат… Но снились, конечно же, те хатки у Днепра в белых облаках вишен, и не только им, но и даже их внукам, которые там то и побывать не успели… Наверное, просыпались гены. И это не фраза. Мне точно снились. Маленькие бело-розовые хатки у воды с запашистым сеном на крыше, в травы которого так хотелось окунуться…
Бабушка часто вспоминала свое детство там, какие традиции были на святые праздники, какие дружные были, работящие и веселые, вспоминала песни, что пели там, а мы слушали, затаив дыхание. Все это было, как из другой планеты. Но главное наша глубоко верующая бабушка Матрёна все же взяла с собой и передала всем нам — стараться жить по христиански — не делать зла, быть добрыми, уважать живущих рядом с тобой людей и ещё много того, что в повседневной жизни зовётся милосердием и состраданием. Родиной ее детей и внуков стал Казахстан и она нас учила любить свою новую родину всем сердцем и делать ее ещё прекраснее. И мы хорошо усвоили этот наказ и всегда следовали ему.
И это было как что- то само собой разумеющееся, как и во многих других семьях переселенцев. Бывало даже люди уезжали на историческую родину и возвращались назад, потому как — дома лучше! В Астраханском районе Вера Михайловна Монзолевская, учительница местной школы, после 35 лет работы здесь, решила-таки уехать на родину предков, в Польшу, а через два года приехала обратно. Родиной оказалась её Приишимка, лучше которой не было на всем белом свете. Пришла в Посольство, молила вернуть обратно — услышали: » Здесь все мое — и горе, и радость, и каждый рассвет — разве такое забудешь?»
А воспоминаний было много, и самых разных. Восьмого сентября 1936 года вместе с другими депортированными их выслали в Казахстан. Разместили в саманных домиках по две семьи, а всего было человек 120. Спецпереселенцев встретила суровая зима. Приходилось по примеру местного населения готовить кизяк, солому и сухую траву, чтобы было чем топить печь, так как вокруг простиралась голая степь. Рядом бродили волки. Воду брали из реки Ишим. В самое трудное первое время им часто помогали казахи из соседнего аула Ондирис, приносили продукты, даже когда разливался Ишим, и их село было оторвано от мира.
Вскоре у них появилась ещё одна улица, на которой расселили семьи депортированных евреев и немцев. Несмотря, что преподавание в школе велось на русском, Вера Михайловна обучала детей и польскому, и немецкому, чтобы сохранить родные языки. А друг с другом скоро начали общаться на четырех языках. Особо почиталось знание казахского, и это было чем-то естественным и шло от сердца, как дань уважения и благодарности к приютившему переселенцев народу.
В этом районе много удивительного. Перед воротами бывшей тракторной мастерской, а ныне коллективного хозяйства «Пельцер» всех удивлял музей под открытым небом, где были выставлены предметы, собранные у местного населения главным агрономом Петром Собковичем: плуги, лемеха, каменные катки, дуги, старинная утварь — прялки, чугунки, сепараторы, оплетённые вручную бутыли, чугунные утюги и даже маленькая телега, на которой приехали переселенцы из Украины.
Народная молва за долгие годы совместной жизни людей разных национальностей сложила и свои легенды, и свои истинные повести. К примеру, о некоем коменданте на поселении Бекенове, старавшиеся облегчить участь спецпереселенцев и не наказывать голодных людей, собиравших с поля оставшиеся колоски, мерзлую картошку. Наоборот, он даже сам направлял того или иного местного жителя поделиться с голодающими соседями, грозясь при этом проверить приказ, который так и гласил — выжить! А в селе Первомайка все хорошо знают историю бывшего председателя сельского совета Ивана Антоновича Загаевского. По своей родословной, Загаевские — благородного происхождения, история фамильного герба их рода насчитывает более 500 лет! По преданию польский король Ягайло за верную службу наградил подданных землями за Гаем, отсюда и пошла фамилия — Загаевские. Это — предки. А детство самого Ивана Антоновича в депортации было тяжёлым.
С 11 лет — на колхозном поле и конюшне, в 1944 году голод просто косил людей, на один день полагалось всего 40 граммов хлеба, чтобы не умереть, варили траву с колосками. И при всем при этом он много и хорошо учился. После войны отослал свои документы для поступления в сельхозтехникум, но пропуска на выезд ему не дали, осуществил свою мечту только через 17 лет, а потом ещё и институт окончил с отличием, стал высококлассным специалистом, много доброго сделал для своей новой родины. А в селе Зелёное у одной из жительниц, Людмилы Чулковой, хранится настоящий раритет — немецкая трудовая книжка с отпечатками пальцев. Девчонкой, в 13 лет, она была вывезена фашистами из Витебска в Германию, номер ее рабства так и остался отпечатанным на теле — 131/ 3820. После освобождения она попала в детский дом, затем поступила в деревообрабатывающее училище и по путевке отправилась на целину.
Зинаида Цальцалко также в годы оккупации попала в плен и была вывезена в Германию. На целине же она прославилась своим рукоделием и даже передала на память землякам в музей вышитый ею шерстяной ковер, кружевную скатерть и самотканные дорожки. Судьбы людей — как золотые россыпи, чего в них только нет!
В селе Ондирис Салим Акылбаев поведал удивительную историю своей семьи: его родословная идёт от султана Ибрая. В давние времена кипчаки вынуждены были уйти сюда, на место расположения нынешнего аула Ондирис, и теперь, так считают все, здесь живёт дух предков. Отец Салима был репрессирован и мать молодой женщиной, в 27 лет осталась вдовой с малыми детьми. В память об отчем шаныраке, спасшем их и согревавшем, Салим с супругой и семья сына решили жить в этом старом саманном доме. Где жила мать и вырастила их, несмотря ни на что, преодолев все невзгоды.
В поселке сохранилось ещё несколько таких саманных домов. Несмотря на свою внешнюю вроде бы и непривлекательность, они имеют внутри по нескольку смежных комнат, в которых очень тепло зимой и хорошо дышится. У некоторых этих мазанок рядом со входом в дом есть ещё несколько дверей, что служат входом в кладовки и сараи. Дома покрыты глиной — такие строения были очень распространены в прошлом и просто незаменимы во время зимних кочевий. Доступный для их строения материал всегда компенсировал в степи отсутствие строительного леса.
В селе Астраханка хорошо известно и имя ещё одного старожила, Марии Ивановны Кольцовой, которая в годы войны выучилась на Ворошиловского стрелка и вместе с ещё пятью девчатами записалась на фронт. Но ее не отпустили, избрав секретарем районного комитета комсомола, остальные же девчата обслуживали самолёты на Дальнем Востоке и после войны благополучно вернулись домой с Победой. А сама Мария Ивановна после войны стала журналистом и долгие годы возглавляла местную газету, стала Почетным гражданином села.
Сколько же самых разных имён и судеб теперь начертано на нашем небосклоне, и кто теперь особенно станет разбираться, какой ты национальности и откуда родом твои предки? Главное, что ты состоялся здесь и посвятил именно ей, земле, взрастившей тебя, свой звездный час. И именно здесь, пройдя через горести и радости, мы все вместе учились жить дружно, и не хотим растерять эту науку никогда.
Как там у Абая: «Нет для подлинной дружбы нигде межи, плещут волны любви через все рубежи…»