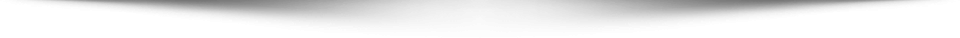2025 год – год Чокана Чингисовича Валиханова (1835-1865)
Как блестящий метеор, промелькнул над нивой Востоковедения потомок киргизских ханов и в то же время офицер российской армии Чокан Чингисович Валиханов.
Н.И. Веселовский (1848 – 1918)
В августе 1896 года в ежемесячном литературном и научном журнале «Русское богатство» в № 8 в Санкт-Петербурге была опубликована статья Григория Николаевича Потанина (1835 – 1920), действительного члена Императорского Русского географического общества (ИРГО), русского исследователя Северной и Центральной Азии, друга Чокана Чингисовича (Мухаммеда-Ханафии) Валиханова (1835 – 1865), «В юрте последнего киргизского царевича (Из поездки в Кокчетавский уезд)». Григорий Николаевич между экспедициями в Монголию нашел время в 1895 году для посещения Сырымбета, чтобы отдать последний долг незабываемому другу Чокану, скончавшемуся в 1865 году, и встретиться с его отцом Чингисом Валихановым (1811-1895), старшим султаном Кокчетавского округа, полковником русской императорской армии.
В юрте последнего киргизского царевича* (Из поездки в Кокчетавский уезд).
*Настоящая статья есть рассказ о днях, проведенных мною в юрте киргизского султана Чингиса Валиевича Валиханова. Султан Чингис — сын последнего киргизского хана Вали, почему я и назвал его в заголовке статьи киргизским царевичем. У хана Вали было две жены: от старшей жены был сын Габайдулла и другие; у младшей, ханши Айганым, старший сын назывался Чингис; у него было два брата: Чене и Альджан. После смерти Вали-хана киргизы объявили ханом Габайдуллу, но сохранение ханской власти в орде но входило в расчеты русского правительства; Габайдулла был арестован и отвезен в ссылку в Березов, так и кончилась ханская власть в орде (Г.Н. Потанин поверхностно подготовил эту сноску, вот что пишет об этих событиях И.Я. Словцов в своей работе «Путевые записки, веденные во время поездки в Кокчетавский уезд, Акмолинской области, в 1878 году»: «В 1819 году Букей умер, а вслед за ним в 1821 году умер и Вали. На их место никого не избирали, правительство решилось ввести в сибирских степях порядок управления, сходный с тем, какой существовал в Западной Сибири. В 1822 году Генерал-Губернатор Западной Сибири Петр Михайлович Капцевич предложил открыть в кочевьях Кокчетавских, принадлежавших семейству умершего хана Вали, и в кочевьях Каракизякских (Каркаралы), где жили родичи Букея, внешние округа и при них «диваны» (приказы). Для этого в город Петропавловск был вызван наследник хана Вали султан Габайдулла, и ему было объявлено новое уложение по управлению киргизами, переведенное на татарский язык. Габайдулла в присутствии почетных старшин новое положение принял и «признал его во всех отношениях истинно полезным для народа ему подвластного». Китайское правительство проведало о предначертаниях Капцевича и начало создавать им препятствия. В 1823 году комендант Семипалатинской крепости Кемпен представил Генерал-Губернатору перехваченные им на имя Габайдуллы три китайских письма: одно от амбаня города Чугучака, другое от китайского Дзянь-зюня и третье от султана Чамы Аблайханова (китайского чиновника). В письмах этих просят Габайдуллу, чтобы он или явился сам, или послал депутата к богдыхану в Пекин для засвидетельствования своего подданства… 29-го апреля 1824 года собравшиеся в Кокчетаве старшины и почетные киргизы, при многочисленном стечении народа, открыли «диван» и избрали председателем и страшим султаном Габайдуллу Валиханова. При этом он со всеми заседателями, биями и старшинами, бывшими на выборах, принял через муллу присягу на верность службы русскому Императору… Вскоре, в том же 1824 году, чтобы расположить киргиз к России и укрепить их веру в благородных стремлениях Правительства, повелено выстроить в степи мечеть Валихановой вдове – Айханым. Засим, во время отъезда Петра Михайловича Капцевича в Петербург, было проведано, что Габайдулла Валиев не только не оставил своих сношений с Китаем, но даже принимал депутацию от китайского правительства, которое намеревалось провозгласить его ханом Средней орды в Баян-ауле. Броневский призвал его в Омск и взял под караул… Поэтому Габайдулла был устранен от должности старшего султана Кокчетавского приказа… Исправление должности старшего султана в Кокчетавском диване было поручено преданнейшему русскому правительству султану Джелгаиру Байтокину. С этого времени управление внешним Кокчетавским округом приняло надлежащее течение» — АИЩ.). Братья Чингиса Чене и Альджан умерли; если из детей младшей ханши остался только один Чингис, то очень вероятно, что из детей старшей ханши никого не осталось, так что из всех сыновей последнего хана Вали в живых теперь, вероятно, один только султан Чингис, и мы думаем, что мы имеем право величать султана Чингиса «последним» киргизским хановичем или царевичем.
Едва ли читатель знает, где это Кокчетавский уезд. Не многим яснее для него станет, если сказать, что это в Акмолинской области, и разве когда назовешь Киргизскую степь, то он уразумеет, в какую сторону нужно выйти из ворот, направо или налево, чтобы попасть в этот уезд, и у него появятся некоторые представления о пейзаже, о людях этой местности. Но тут выйдет еще хуже, потому что эти представления совсем не будут верны действительности. Киргизская степь! — значит это что-то плоское, монотонное, серое, скучное, без голубых вод и без зеленого покрова земной поверхности, это край, где задыхаются от пыли, страдают от жажды и утоляют ее из застоявшихся колодезей,— словом, что-то вроде Сахары или Гоби. На самом же деле это край с высокими горами, горными речками и множеством больших пресных озер, покрытый сосновыми борами, березовыми лесами и луговыми степями, — словом, край благодатный и очень богатый живописными уголками.
При обширности нашего Отечества, вероятно, не мало таких уголков, которые мало известны, хотя бы заслуживали большей популярности. Кокчетавский же уезд тем более вправе рассчитывать на общественное внимание, что в него теперь устремляется сильное движение переселенцев.
Один научный узкоспециальный вопрос привел меня прошлым летом в этот хорошенький уголок. До города Петропавловска, лежащего на северной границе Кокчетавского уезда, доходит железная дорога; от Петропавловска до города Кокчетава приходится ехать на почтовых. После четырехдневного заточения в вагоне мелкие неудобства езды на перекладных в открытом экипаже, то есть в простой тележке, переносишь с удовольствием и в охотку.
Чем более удаляешься на юг от Петропавловска, тем реже становятся березовые «колки», т.е. березовые рощи; цветистый луговой ковер ишимских степей, окружающих Петропавловск, сменяется волнующимся морем ковылей; вместо «томаров», чашеобразных углублений в почве с зыбучим болотом в середине, появляются солонцы. Словом, ишимская степь переходит в Киргизскую, которая на отдаленной южной своей окраине превращается в бесплодную пустыню, известную у киргизов под названием Проклятой степи (Бедпак-Дала), а у русских под именем Голодной. Переход этот был бы непрерывен, если б в 200 верстах к югу от Петропавловска не было гор, которые тут проходят с запада на восток и пересекают нашу дорогу. У северной подошвы этих гор степь становится типически безлесною, настоящею киргизскою, но туту вдруг вместе с горами появляются березовые колки и, чего нет даже около Петропавловска, сосновые боры на горах, а между горами вместо солончаков расстилаются пресные озера и струятся горные речки.
От Петропавловска вплоть до Кокчетава — расстояние в сто семьдесят верст — дорога гладкая, ровная, но станции за две до Кокчетава открывается вид на кокчетавский Кавказ; весь южный горизонт представляется взволнованным; прямо на юг видны плоские возвышенности или холмы, налево и направо от них видны синие горы с крутыми профилями, очевидно, скалистые. При подошве невысоких холмов, которые видны прямо в конце дороги, и расположен небольшой городок Кокчетав, киргизский «Владикавказ»; подобно кавказскому, этот киргизский «Владикавказ» лежит на плоскости, но гора начинается сейчас же за городом, и городской сад находится уже на горе.

Кокчетав едва ли имеет более двух тысяч жителей; весь деревянный, ни одной выдающейся постройки, две церкви и две мечети; из этого уже видно, что половина населения состоит из мусульман (Численность населения города в 1895 году составляла «4003 души обоего пола, в том числе городских сословий 1616 душ, казаков 1071 душ и киргиз 422 души». И.Я. Словцов. Издание 2-е. Омск, 1897. – АИЩ); мечети красивее церквей; есть лавочные ряды, в которых торгуют преимущественно татары. Город состоит из двух частей: мещанской слободы и казачьей станицы. Интеллигенция в городе главным образом состоит из казачьих офицеров. Тут есть казачий клуб, казачья (единственная) общественная библиотека; единственная в городе школа для девочек, в которой учатся и мещанские дети, тоже казачья.
Здесь прежде всего я познакомился с казачьим полковником Н. А. Симоновым, о котором я слышал еще в Петропавловске (мне рекомендовали обратиться к нему за советами). Действительно, я встретил в доме г. Симонова самый теплый прием; г. Симонов направил меня к помощнику уездного начальника г. Делазари; самого начальника в это время в Кокчетаве не было; он уехал в отпуск в Россию. Г. Делазари был со мной очень любезен и оказал мне такие услуги, без которых моя дальнейшая поездка не была бы удачна. Конечной целью ее был аул Валихановых; это киргизская семья, с которой я был давно знаком; с одним из братьев Валихановых, Чоканом, давно уже умершим, мы были школьные товарищи; впоследствии я встречался и с другими братьями и с их отцом. Мой план на лето был такой — заехать в аул Валихановых, поселиться в нем, если меня примут, и работать. Но я никогда не переписывался с Валихановым и даже не знал, жив ли султан Чингис, отец Чокана (Султанами у киргиз называются потомки ханов; они составляют высшее сословие киргизского народа, которое называется «белою костью», в отличие от «черной кости», т.е. от простонародья).
Я знал, что зимовка Валихановых находится в урочище Серембет, но теперь лето, аул Валихановых откочевал на летовку, следовательно, в Серембете искать его нечего; нужно было в Кокчетаве узнать, где находится летовка Валихановых; да и о самом Серембете я не знал, в каком расстоянии он лежит от Кокчетава.
Г. Делазари дал мне в проводники одного из «почтовойше», которые состоят на службе при уездном полицейском управлении. Так называются полицейские рассыльные из киргизов. Это обыкновенно бойкие, расторопные люди, соединяющие знание кочевых обычаев со знанием русского языка, незаменимые для русских чиновников во время их разъездов по степи. Данный мне «почтовойше» носил имя Найман; он потом, в дальнейшей нашей поездке, оказался неоценимым товарищем.
Еще до моего знакомства с Найманом я от кого-то получил приятное известие, что султан Чингис жив. Вслед за тем Найман в тот же самый день, как мы с ним познакомились, привел в мою квартиру родственников султана Чингиса, по каким-то делам приехавших в Кокчетав. Они сообщили, что Чингис стоит под горой Тохту, в 30 верстах от казачьего селения Бабыка. Приехавшие родственники Валиханова рекомендовали мне прожить несколько лишних дней в Кокчетаве, чтобы дать им время, справив свои дела, уехать вперед и оповестить султана Чингиса; нам бы из аула выслали в Бабык тарантас и лошадей. Но времени и так было потеряно много, согласиться было нельзя, и мы на другой день выехали из Кокчетава по дороге в Бабык. Со мной ехал также студент Петербургского университета киргизский султан Султан-Газин, которого я пригласил сопутствовать мне в качестве переводчика, встретившись с ним еще по дороге в Петропавловск. Найман сидел у нас на козлах.
По всей дороге до Бабыка нам попадались русские селения, так что везде мы ехали в тележке на сменных лошадях; местами станции были не более 15 верст. Всего в Кокчетавском округе насчитывается до сорока русских селений; частью это казачьи станицы, частью крестьянские деревни. Только первая станция от Кокчетава стоит одиноко среди такой же пустыни, как и та, которая окружает город Кокчетав; но неприглядные окрестности этого города не дают никакого представления о живописных картинах, которые открываются в глубине края, хотя схематические черты местного пейзажа и здесь уже есть: гора, при подошвы горы озеро, на берегу озера селение – вот схема здешних наиболее живописных местечек. Это все есть у города Кокчетава, но только те две горушки, которые торчат над озером, слишком ничтожны, чтобы ослабить монотонных характер прилегающей плоской степи; менее чем в час ходьбы можно быть на самой высшей их точке; они плоски, на них нет никаких скалистых выступов и, кроме того, они совершенно голы, безлесны, как безлесна и плоскость, окружающая со всех сторон большое кокчетавское озеро. Словом, окрестности Кокчетава не дают никакого намека на красоты, которые скрываются за этими прозаическими предгорьями.
Селения, которые мы видели на дороге, Челкар, Янгистав, Аиртав – все расположены в живописных местностях; каждое лежит на берегу озера, над которым непременно, с одной стороны, круто поднимаются скалистые горы, покрытые густым сосновым лесом.

Промежуточные между горами сравнительно более плоские пространства покрыты более или менее густыми березовыми рощами, а промежутки между рощами покрыты высокой по колено луговой травой; люцерна иногда заливает целые десятины своим желтым цветом. В горах травы еще выше, некоторые своей высотой почти в рост человека напоминают могущественную растительность Алтая. Не мудрено, что в этот уголок устремилась волна переселенцев. Такие живописные места тянутся на сто верст к западу от Кокчетава и на сто верст к востоку. Особенно красивы, по общему отзыву, места к востоку от Кокчетава, именно окрестности озер Щучьего и Борового, а также окрестности селения Котур-куль к югу от Кокчетава.

Три названных селения Боровое, Щучье и Котур-куль сделались в последнее время местами, куда ежегодно летом наезжает до пятидесяти человек из соседних губерний лечиться кумысом. Этот новый кумысный курорт имеет будущее; наплыв больных непременно будет разрастаться. Пока сюда приезжают гости только из сибирских городов, из Тобольска, Кургана и Омска; с проведением железной дороги до Петропавловска поедут вероятно и из Европейской России. У этого вновь открывающегося кумысолечебного района есть, конечно, недочеты, но много и преимуществ перед другими подобными местностями. Во-первых, железная дорога не доходит вплоть до места; от Петропавловска приходится еще 260 верст ехать до Борового или Щучьего; потом местное население и местная администрация пока не успели еще сделать никаких приспособлений для удобства больных; нет организованной медицинской помощи, нет библиотек. Но за то, во-первых, здесь жизнь дешевле, чем на каком-нибудь другом «кумысе» (Комната отдается за 4 рубля в месяц; мясо 4 копейки фунт, крынка молока 5 копеек, цыплята 15 копеек штука), во-вторых, едва-ли какой другой район может похвалиться лучшим достоинством этого напитка, чем кокчетавский район. И, наконец, в-третьих, ни на каком другом «кумысе» вы не будете жить в такой поэтической обстановке, как здесь.
На другой день по выезде из Кокчетава мы добрались до Бабыка. До сих пор мы ехали на земских лошадях, платя установленные прогоны; в Бабыке нужно было нанять вольнонаемных лошадей до аула султана Чингиса, то есть до горы Тохту, до которой, по словам бабыкских казаков, оставалось всего верст тридцать. Казаки, как настоящие цивилизованные люди, не дикари какие-нибудь, сумели верно оценить момент: дорога от Петропавловска до Бабыка около 250 верст стоила мне за пару лошадей немного больше восьми рублей; казаки же за провоз меня с моими двумя спутниками до аула Валихановых, т. е. за 30 верст, заломили тоже восемь рублей. Сколько я не прибегал к сравнительному методу, сопоставляя казачьи цены с тем, что мне стоило проехать от Петропавловска, я не мог убедить казаков; против моих доводов они умели выставить свои, — до горы Тохту хотя и считается тридцать верст, но в самом-ли деле тридцать, кто его знает, может быть и все сорок! Дойдем до горы, а вдруг окажется, что аул Валихановых стоит не у самой горы, а десять верст далее! Да и вообще это дорога в неизвестность, середина идет пустырем, тут могут встречаться и грабители. Если бы я был культурнее, я подождал бы до вечера, позвал бы других охотников ехать в степь, а потом и третьих, сначала поторговался бы с одними, потом с другими, потом с третьими, и не на улице, как я это сделал, где с одним ведешь переговоры, а другие все слышат, а призывая каждого отдельно в дом, и наедине; словом, надо было разъединить противников и каждого уничтожить отдельно. Конечно, если б оставалось еще ехать верст сто, может быть я так бы и сделал; но осталась всего одна станция, завтра я буду уже среди нецивилизованных киргиз, и новые впечатления заслонят горечь этого поединка простофильства с китайским опытом. Казачья культура и выдержка восторжествовали, а я уступил.
Такого большого экипажа, в котором могли бы поместиться мы все трое с нашим багажом, здесь не нашлось, и потому нам пришлось ехать в двух тележках; каждая была запряжена одной лошадью и на каждой сидел казак кучер. В одной тележке поместились я и мой товарищ г. Султан-Газин, в другой наш багаж и Найман, с которым у нас начало зарождаться духовное родство. Мы поняли, что у нас с Найманом есть общие интересы и есть общие противники, что мы с Найманом составляем один лагерь, а казаки, которые нас везут, другой, и что надо насторожить внимание, — не станут ли казаки облегчать свой труд в ущерб нашей выгоде.
Сначала мы ехали по волнистой местности, покрытой березовыми рощами; дорога проходит то внутри березового леса, то по прогалинам между рощами. Горизонт был постоянно закрыт лесом, и если на горизонте были горы, то они были так незначительны, что не выдвигались из-за верхушек леса. Только влево на юго-востоке поднимались высокие скалистые и безлесные Аккан-бурлукские горы. К концу дня березовые рощи остались позади, мы выехали на безлесную степь, по которой протекает мелкая речка Аккан-бурлук. Казаки указали на небольшую горку, которая виднелась впереди, немного вправо от дороги. Это, по их словам, и была гора Тохту. Степь была совершенно пуста; нигде не было видно ни скота, ни людей. Солнце уже было низко, а до горы оставалось еще версты две. Казаки предложили ночевать; они говорили, что все равно нам сегодня много что удастся доехать до горы Тохту, а поиски аула Валихановых придется оставить до завтра. Совет не был коварный, и оставалось только принять предложение. Остановились над рытвиной, в которой течет Аккан-бурлук, возле киргизской зимовки. Зимовка состояла из двух-трех хижин с плоскими крышами, с квадратными маленькими окнами без рам; у каждой хижины был небольшой двор, огороженный тыном. При каждом дворе, кроме хижины, есть еще одна постройка, которая по-киргизски называется чучели; она служит вместо кухни. Это бревенчатая шестигранная юрта без окон и печи, с земляным полом, с очагом посредине и с конической крышей, прикрытой дерном.

Эта ночевка в степи не предвиделась, и казаки не захватили с собой посуды, чтобы сварить чай. Пришлось в сухую лечь спать. Казаки надергали из тына хворосту, зажгли небольшой костер больше для развлечения, чем для удовлетворения физических потребностей, — и все улеглись на голой степи под открытым небом. Ночь была теплая, и небо ясное; дождь не угрожал, но спать было душно, потому что пришлось закрыть голову пледом от комаров. Найман предлагал расположиться в одной из киргизских хижин; там, он говорил, от комаров будет спокойнее, если внутри дома развести курево, но зато там была другая напасть – множество блох.
На другое утро голодные мы двинулись далее. Все видимое пространство степи было, как и вчера, безжизненно. Нигде не было видно скота, ни один всадник не показывался на горизонте. По сю сторону горы Тохту, не было никакого сомнения, аула не было; если б он скрывался в рытвине речки, его присутствие выдал бы бродивший около него скот. Все наши надежды сосредоточились на той точке дороги, где она огибает гору Тохту и, следуя параллельно долине реки Аккан-бурлука, поворачивает на запад. Тут мы ожидали увидеть новое колено долины, которое было загорожено горой; в нем, может быть, и прятался аул Валихановых. Один из казаков увидел на горе Тохту какие-то темные пятнышки; он думал, что это бродит скот, но Найман сказал, что это, может быть, и камни.
Наконец, мы доехали до критического пункта. Перед нами открылось новое пространство, которое ранее было закрыто возвышенностями, но положение не изменилось. Ни одного радостного признака, ни малейшего загадочного пятнышка. Все начинаем волноваться. Казаки неохотно идут вперед; мы ждем, что сейчас начнется разлад наших интересов, что мы заспорим. И в самом деле спор между казаками и Найманом загорелся. По мнению казаков, напрасно продолжать поиски аула Валихановых, его тут нет и не было.
В самом деле, что же было делать? Чтобы ехать в степь далее другие сутки, до тех пор, пока не доедем до аула Валихановых, нужно начать новые переговоры с казаками, а что они запросят теперь, когда, кроме них, никого нет? Или вернуться назад в Бабык?
Найман, однако, знал отлично обыкновения своего народа, умел ориентироваться в подобных обстоятельствах и энергически настаивал на том, что надо ехать вперед. В Кокчетаве киргизы сказали, что аул Валихановых стоит у горы Тохту; не зря, конечно, сказали, обманывать не станут. Аул где-нибудь тут. Султан Чингис тронулся с летовки на зимовку, и другой дороги ему нет как тут, мимо горы Тохту; ему некуда деваться. Султаны всегда стоят на речках; вот тут и речка, и аул где-нибудь подле речки.
Найман говорил с такой уверенностью, как будто все это было для него аксиомой. Казаки сдались и согласились еще податься немного вперед, до ближайшего бугра; если с этого бугра ничего не увидим, поворотим назад. Доехали до бугра и не только до этого, но и до другого подальше, но никаких признаков аула не открылось. Казаки торжествовали. Никакого сомнения, что аула близко нет; около большого аула где-нибудь на горах был бы виден скот. Но это соображение казаков в глазах Наймана не имело никакой цены: солнце на вершине неба, жара, зачем же скот будет ходить по горам; он теперь стоит сгруженный у реки, на дне речной рытвины, и его не видать.
В это время сзади нас вдали были замечены два всадника, которые переезжали степь поперек нашей дороги. Они как будто ехали к тому же пункту, что и мы, только другой, более прямой дорогой, через гору. Появление всадников окончательно убедило Наймана, что аул находится впереди на нашей дороге. Они едут налегке, без багажа, без вьючной заводной лошади, значит, какие-то родственники или знакомые едут в гости в аул, который где-то недалеко. Казаки должны были согласиться, что тут где-то есть аул; если не тот, который мы ищем, то какой-нибудь другой; в нем мы, по крайней мере, что-нибудь узнаем о Валихановых.
Едем. Вдруг перед нами открывается неглубокая впадина к земле и в ней какой-то табор. Вот и аул Валихановых, думаем мы; кажется, и Найман так думал. Но странно: юрт не было видно, одни только телеги с уложенною на них поклажею, завернутою войлоками, и между ними небольшие балаганы, наскоро построенные из красных юрточных решеток.
— Э, они кочуют! — сказал Найман, как только увидел табор.
Хотя я провел немало времени в степях, но мне никогда не приходилось кочевать вместе с кочевниками; во всех путешествиях я ходил своим собственным аулом и никогда не видел кочевого табора на остановках во время передвижения с летовки на зимовку. Юрт в этом случае не ставят, а устанавливают шалаши из юрточных решеток. Чаще всего берут два «каната» (Решетка, из которой образуется цилиндрическая нижняя часть юрты, состоит из нескольких отдельных звеньев, которые связываются вместе; отдельное звено называется «канат») и ставят их так, как дети строят домики из карт в виде двускатной крыши; такие шалаши называются по-киргизски ит-арка – «собачья спина». Еще проще другой шалаш, киргизское имя которого я забыл, а в переводе оно значит «чангарак прислонен» (Чангарак – это деревянный обруч, которым венчается свод юрты); это значит, что обруч, который образует вершину свода юрты, прислонили к телеге сзади, да набросили на него войлок и больше ничего. Подъехав к табору, мы узнали, что это еще не аул Валихановых, а чей-то чужой, что до аула Валихановых остается еще с версту проехать вниз по той же речке. Вскоре, к общему нашему удовольствию, мы увидели два других аула, расположенных на противоположном берегу реки Аккан-бурлук: один — выше по реке, другой —в полуверсте ниже; первый был аул племянников султана Чингиса, сыновей его брата Альджана, второй — его самого. Этот последний состоял из десятка больших юрт и нескольких малых шалашей; юрты были окружены телегами, большею частью пустыми, разгруженными; две белые юрты стояли на близком друг к другу расстоянии; потом оказалось, что в одной из них помещался сам султан Чингис с женой, а в другой — его младший сын Кокуш со своими детьми.
Подъехав к рытвине, в которой текла река, мы остановились против аула на другом берегу. Нас от аула отделяла только речная рытвина, на дне которой, частью в воде, стояли табуны и стада, совершенно согласно предсказанию Наймана. Киргиз, провожавший нас верхом на лошади от первого табора, уехал вперед с нашими визитными карточками. Мы видели, как он переехал через реку, поднялся на террасу, подъехал к юртам, слез с лошади и вошел в юрту Кокуша. Найман остался с нами и, сидя на козлах, истолковывал те движения и действия, которые мы замечали в ауле и которые, очевидно, были вызваны нашим появлением.
— Пошли с докладом к Чингису. — Хотят принять, откинули тюндюк (Войлок, которым закрывается верхнее дымовое отверстие юрты); значит, ладят юрту, стелят ковер.
Когда наши телеги переехали реку и поднялись на террасу, из дверей юрты вышел прилично одетый мужчина лет около сорока, красивой наружности, с важной осанкой и меланхолическим взглядом; это был Кокуш. Он был одет почти по-европейски, на нем было белое летнее платье; пиджак и узкие панталоны; только красная феска придавала его фигуре вид мусульманина. Этот смешанный костюм напоминал булочника, анатолийского турка в Севастополе или Феодосии в Крыму. Приглашенные Кокушем войти в юрту и уже знакомые с киргизским этикетом, мы с султаном Султан-Газиным вошли и заняли свои места на разостланном ковре, на правой половине юрты. Разговор начался с обычных приветствий; Кокуш говорил сдержанно, так что мы не знали, приятные ли мы гости или нет. Кокуш недавно овдовел; на руках его осталась застенчивая девица Тума, в возрасте младшей гимназистки, и резвый мальчик Шерджан.
Через несколько минут из другой юрты пришел Якуб, старший сын султана Чингиса, и разговор оживился. Якуб был одет совершенно в такой же костюм, как и Кокуш. Это, очевидно, была киргизская мода конца XIX столетия. Якуб властно вошел в юрту, поздоровался с нами громко, не церемонясь, и сел между нами и хозяином юрты, т. е. занял первое место на хозяйской половине, стушевав Кокуша на второй план. Он отдавал приказания слугам Кокуша, как будто сидел в своей собственной юрте, и к нашему приезду отнесся как первое лицо в ауле, обещая устроить наше пребывание в степи. Словом, он был в роли старшего брата.
Через полчаса в юрту вошел киргиз, очевидно посол из юрты султана Чингиса, и обратился к Якубу с докладом. Выслушав его, султан Якуб передал нам по-русски: «Папаша зовет вас к себе на чашку чаю!»
Мы двинулись в главную юрту аула всей нашей компанией: я, султан Султан-Газин и Найман, а также Якуб и Кокуш.
В главной юрте вместе с султаном Чингисом жили его жена (байбиче) и девица Чаукобай, внучка Чингиса. Когда мы сидели в юрте Кокуша, Якуб старался приготовить нас к впечатлению главной юрты; он, по-видимому, боялся, как бы мы, увидевши Чингиса, не испытали разочарования; он предупреждал нас, что папаша теперь уже не прежний, сделался больным стариком, ум его стал ребяческий. Оказалось, что сын слишком уж мрачными красками обрисовал состояние своего отца. Султан Чингис, несмотря на свои 85 лет, был еще бодрый старик; до последнего времени он делал свои перекочевки не в тарантасе, а верхом на лошади; года три тому назад он женился на новой жене. Со старой женой Зейнеп, матерью Чокана и его братьев, Чингис прожил 52 года.
Султан Чингис сидел у задней стены юрты, т. е. против дверей. Кровать с нагроможденными ковриками и подушками занимала правый бок юрты; подле кровати сидела байбиче, рядом с нею — девица Чаукобай; она разливала чай.
Сидели мы с поджатыми ногами. В молодости я умел сидеть по-турецки без утомления, но отвык, ноги мои не гнулись, и мне было ужасно неловко, хотелось вытянуть их вперед. Султан Чингис заметил это, но он не мог себе представить, что мои ноги были не в состоянии согнуться, и думал, что вся причина в узких панталонах. Он приказал байбиче сейчас же достать мне из султанского гардероба панталоны и рубашку киргизского покроя, посоветовал переодеться в это платье и рассказал, что один его старый приятель чиновник Сотников, который в сороковых годах приезжал гостить к нему из Омска каждое лето, всегда в ауле одевался в кочевой костюм.
И в самом деле, как только мы кончили чай и стали раскланиваться с султаном, мне подали киргизский летний костюм. Взяв под мышки эти вещественные знаки моего водворения в киргизском ауле, я удалился в юрту Кокуша, которая семейным советом была назначена для помещения меня и моего спутника г. Султан-Газина.
Летовка Валихановых, т. е. место, где они проводят лето, находится у озера, в 20 верстах к югу от того места на Аккан-бурлуке, где мы нашли эту семью. Аул уже двинулся с летовки на зимовку, и мы застали его в ходу, но так как Валихановы имели намерение постоять здесь несколько дней, то аул был не в кочевом порядке, а как будто на постоянной стоянке: были поставлены юрты, а временных шалашей вроде «собачьей спины» или «прислоненного чангарака» не было.
Летовка, джайляу для киргизов — самое веселое место. Зимой киргизы в течение восьми месяцев живут на одном месте; понятно, что народ должен разместиться как можно просторнее, чтобы около каждой зимовки была достаточно обширная кормовая площадь для скота. Летом этого простора в такой мере не требуется, и на летовках народ живет более сплоченно, чем зимой. Известно, что англичане зиму проводят в фамильных парках, а лето в Лондоне, и сезон увеселений, театров и оперы у них — лето, а не зима, как на материке, — и у киргизов в том же роде лето есть сезон игр, скачек и всякого рода спорта. Тут устраиваются борьба, бега и разные другие игры, и состязания. Мы опоздали и уже не застали этих народных развлечений.
Разгар летней жизни миновал, но все-таки до настоящего конца сезона, т. е. до водворения киргизов в их зимние хижины, еще оставалось около двух месяцев, и нам было еще достаточно времени, чтобы испытать вдоволь всю прелесть пребывания среди мычащих и блеющих стад и изведать «свет и тени» кочевого образа жизни.
Когда вы водворяетесь в киргизском ауле, прежде всего, вам бросается в глаза, что вы попали под негласный надзор, особенно ночью. Вы замечаете, что за вашими движениями внимательно следят; только вы приподнялись с места, как уже ваше намерение оставить юрту угадано, слуга предупредительно приподнимает занавеску дверей, выходит вслед за вами из юрты и следует за вами по пятам в почтительном расстоянии, но и не в таком большом, в каком вы бы желали. Волей-неволей вы должны подчиниться этому надзору, иначе на вас нападут злые аульные собаки.
Постепенно вы знакомитесь и с другими особенностями жизни среди мирных стад. Вы думаете, что нигде вы не найдете такого благорастворенного воздуха ночью, нигде вы не будете засыпать среди такой тишины и безмолвия, как в киргизской палатке, но вы ошибаетесь. На ночь киргизы пригоняют стада к аулу; овцы укладываются спать посредине аула, а коровы ложатся кругом. Как только стадо вошло в аул, начинается возня. Телеги скрипят, юрты ходуном ходят, потому что коровы и овцы начинают чесаться и тереться об них. Ручные козлы вскакивают в юрты, дебоширят, ходят по вашим ногам, если они протянуты, и наступают на вашу голову, если вы лежите. Это вторжение четвероногих в жизнь людей продолжается до тех пор, пока стада не улягутся. Вы сидите в юрте или палатке, ничего не видите и только по звукам, доносящимся до вас, догадываетесь, что происходит вне юрты; там что-то трещит, в другом месте ломается, в третьем что-то падает на землю; еще далее женские голоса в испуге кричат: Ой ба яй! Лошади пробежали, задели ногами за шнуры палатки и обронили угол ее на сидевших в палатке женщин. Вот что-то медное зазвенело; из соседней юрты раздается добродушный голос султана Чингиса:
— Э, самаурным басы кетты! (Эх, пропала головушка у самовара!).
Он тоже, сидя в юрте, ничего не видит, но для его умственного зрения стен не существует, и он понял, что только что скипевший самовар роковым образом пришелся на пути, по которому должна была пройти корова. За часть времени, пока не улеглись стада, они успеют привести пространство вокруг юрт в такое состояние, что всякий раз, если вам случилось выйти из юрты в темноте, возвращаясь назад, вы должны самым внимательным образом осмотреть свою обувь. Несколько промахов, которые вы неизбежно делаете, вскоре убеждают вас, что, намереваясь поселиться в киргизской юрте, вы поступите вежливее по отношению к ее хозяину, если оставите русскую обувь и замените ее киргизской, т. е. наденете «ичиги», сафьяновые чулки и «кебисы», кожаные калоши. Входя в юрту, вы можете сбросить «кебисы» с ног у порога, как это делают киргизы, и тогда вы ступаете на дорогой персидский ковер подошвами чистых «ичигов», не рискуя его запачкать.
Наконец стада улеглись, но и тут еще они не совсем угомонились. Они кряхтят, пыхтят, стонут, чихают и издают разные другие звуки; кроме того, эти «дети природы» портят воздух с невменяемостью, приводящею к отчаянию. Если потянул ночной легкий ветерок, вы радуетесь его прохладе, но, если он тянет с той стороны, в которой расположилось стадо, вы не знаете куда деваться. Днем животные ведут себя самым беззастенчивым образом. То приходится зажимать нос, то закрывать глаза. А иногда наоборот – нужно смотреть в оба, потому что может случиться, что невдалеке от вашей юрты корова разрешится от бремени, вы не заметите родившегося теленка, пробираясь мимо него домой, и чадолюбивая родительница может своими рогами освободить вас от ваших внутренностей.
Простояв дня два или три на Аккан-бурлуке, аул Валихановых двинулся далее на север, по дороге на зимовку, к урочищу Серембет, где у султана Чингиса построен большой деревянный дом. Нам пришлось кочевать вместе с аулом, и тут я в первый раз близко познакомился с процессом киргизского кочевания.
Накануне кочевки, еще с утра, было объявлено нам, что завтра мы кочуем, что вечером юрты будут разобраны, и мы ночуем под открытым небом. Когда солнце начало садиться, люди стали готовиться к кочевке; прежде всего началась укладка вещей в телеги. Когда все вещи, за исключением немногих, без которых нельзя было обойтись ночью, были уложены в телеги, покрыты войлоками и увязаны, начали снимать войлоки с юрт; вскоре там, где недавно стояли беленькие полушария, видны были только красные кружева деревянных остовов юрт; разрушение шло дальше, и эти кружева были разобраны на части, а когда солнце село, аул превратился в табор. Мы были теперь на кочевом положении. Аул получил, если можно так сказать, другой силуэт. Он сделался площе, принял более приплюснутый вид; пустые телеги исчезли, все телеги наполнились и сдвинулись, аул сделался плотнее. Жизнь стала более уличною; ранее часть огней скрывалась в юртах, теперь скрытых огней не было, все они стали наружными. Людские разговоры тоже не заглушались более стенами; они велись на открытом воздухе. Аул стал оживленнее, поэзии прибавилось.
Мы шли от Аккан-бурлука до Серембетя одиннадцать дней; вставали по утрам рано, в 4 часа, до свету. Меня будил обыкновенно скрип телег. Сначала раздается отдельный скрип в одном конце стана; это значит, одну из телег потревожили с места, подтащили вперед или завернули оглоблями по пути, значит, хотят запрягать в нее быка; потом такой же скрип донесется с другого конца стана — другую телегу сдвинули с места. Через несколько минут скрип начинается во всех концах; отовсюду слышны отдельные, отрывистые скрипы с более или менее продолжительными перерывами. Проходит еще несколько минут, и вы замечаете, что в одном каком-то месте эти отрывистые скрипы слились в непрерывающееся скрипение, хотя из других частей стана несется тележная музыка в прежнем роде; вы понимаете, что несколько телег вытянулись в линию и потянулись по дороге; вместе с удалением от стана скрип телег становится тише, но зато на другом конце начинается новая непрерывная ария; еще группа телег пустилась в ход. Где-то в отдалении за рощей началась такая же скрипучая ария, которую едва слышно; это потянулись телеги из аулов Альджановцев или Чепеевцев, т. е. из аулов племянников султана Чингиса, детей его братьев Альджана и Чепе, аулы которых стояли отдельно от аула Чингиса. Все еще темно, рассвет еще не начинался, а уже все пространство оглашается скрипом телег, точно в ночном небе совершается перелет ночных птиц; вы припоминаете из Слова о полку Игореве: «заскрипели телеги половецкие, рци лебеди во полунощи». Движущиеся человеческие фигуры видны только на близком расстоянии; контуры окружающей стан рощи не выделяются на темном фоне неба.
Но вот позади рощи образуется беловатый фон, начинается рассвет, тень сбегает с земной поверхности и быстро отступает вдаль. Сначала мы различаем подробности только внутри нашего стана, а потом становятся доступными зрению и дальние планы. На нашем стане остались только последние телеги, на которые торопятся сложить наши постели, части наших импровизированных палаток и посуду, которая служила нам при вчерашней последней трапезе, да остался еще тарантас, в котором поедет султан Чингис с байбиче и двумя внучками, девицами Чаукебай и Тума.
Пространство впереди нашего стана усеяно рядами движущихся телег; передние телеги уже вытянулись в одну линию и идут по дороге, но это еще не самые передние ряды, тех, конечно, уже не видно: они скрылись за неровностями почвы и за березовыми рощами. Самые задние ряды еще не вышли на дорогу, они вразброд тянутся и справа, и слева, как ручьи к общему руслу.
Там, где были раскинуты станы Альджановцев и Чепеевцев, видны только кучки оседланных лошадей и копошащихся около них пешеходов. На нашем стане тоже готовые лошади стоят связанные и ждут седоков. Мы ищем первого солнечного луча. Кокуш с двумя ассистентами будет совершать на разостланных на земле халатах утренний намаз.
Лошади, которые пойдут сегодня под седлом, все переловлены; табун стоит спокойно, точно тяжелая черная масса лежит на земле; но вот эта масса дрогнула, двинулась вслед за телегами, лошади захрипели и зафыркали, два пастуха, как два маятника, замотались позади задних рядов, и табун тоже начал удаляться. Тронулись и тарантасы с киргизскими дамами; легкой рысцой догоняют они караван и перегоняют его.
По окончании намаза мы, немногие отставшие от каравана, садимся на лошадей. Султан Чингис, как я уже сказал, несмотря на свои 85 лет все еще кочует верхом на лошади, но на этот раз он сел в тарантас, а своего коня и свое седло из любезности уступил мне; Якуб тоже сел в тарантас, а седло свое уступил моему товарищу г. Султан-Газину. Мой конь был белый, красивый, самый высокий во всем табуне, с мягкой, ласкающей, как мелодия, походкой. Беда была только в том, что при маленьком моем росте мне было трудно садиться на такую высокую лошадь. Я не мог обойтись без посторонней помощи; мне приходилось чуть не выше моего темени поднимать свою ногу, чтобы вставить носок ее в стремя, причем если бы мне не помогали, я упал бы навзничь, прежде чем вдеть ногу. Помогали мне таким образом: прежде всего подпирали мне ладонями спину, а потом брали мою ногу и всовывали ее в стремя. Конечно, взгромоздившись на высокого коня, я в течение перехода чувствовал себя беспомощным; при других условиях я с охотой отказался бы от езды на такой башне, но в этом случае было бы бестактно просить о смене лошади: это значило бы не оценить, как следует, ласку хозяина, который меня пожаловал собственным конем. Да, кроме того, езда на таком чудесном коне имела большую прелесть — она вызывала в седоке спокойное настроение.
Кокуш был начальником нашего движения, колонновожатый, центральная фигура кочевки. Во время пути к нему подъезжали родственники, племянники султана Чингиса, здоровались и ехали рядом, составляя его свиту. Многие из членов этой свиты везли на руках ловчих соколов и ястребов. Всегда к этой компании присоединялся также мулла, ведя в поводу лошадь, на которой в детском особого устройства седле ехал его пятилетний сын, привязанный к седлу.
Аул двигался в таком порядке: по дороге или вдоль ее по степи шли телеги, запряженные быками, и тарантасы, запряженные лошадьми. Влево от обоза шли лошади, вправо — бараны. Наконец, небольшой фронт из всадников с Кокушем во главе держался либо вправо, либо влево от обоза.
Современная картина кочевки не дает понятия о том, как кочевали здешние киргизы прежде, когда в здешнем крае киргизы держали верблюдов. Лет двадцать как это животное здесь уже не разводят. В период верблюдоводства багаж обычно перевозился на верблюдах; на быках перевозили только кухонную посуду. Вьюки на верблюдах покрывали коврами. Каждую связку из семи или восьми верблюдов вела обыкновенно молодая замужняя женщина в «соуколе», т. е. в высокой остроконечной шляпе, убранной серебром, маржаном и жемчугом. Кочевка была наряднее, и толпа всадников была многочисленнее. Теперь блеску много убавилось. Быки, идущие в оглоблях, далеко не так величественны, как верблюды.
Интересно, что, хотя способ передвижения существенно изменился, роль женщины осталась прежняя; прежде она кочевала при багаже, и теперь тоже при багаже; только прежде она ехала верхом на лошади и вела верблюдов; теперь она сидит на козлах и правит быком. Эти женщины, сидящие на возах, с головами, покрытыми белыми «джавлуками», придают оригинальный вид киргизскому обозу. В особенности странно видеть, что и на козлах тарантасов, в которых перекочевывают киргизские дамы, тоже сидят киргизки в белых «джавлуках» и правят тройками лошадей. Когда быт изменяется, нередко некоторые манеры и фасоны остаются при новых формах быта, хотя существование их не оправдывается потребностями; так, резиновые калоши почему-то делаются с ложными рантами, как будто из подражания калошам из кожи.
Подвигаясь таким образом к северу, мы, наконец, подошли близко к урочищу Серембет. Оставалось верст пятнадцать или семнадцать до дома, в котором султан проводит зиму. Тут Валихановы стоят месяц, чтобы не вытравить преждевременно корма около Серембета. Прежде аул султана Чингиса приходил на это урочище позже; с каждым годом, как и все киргизские аулы, Валихановы начинают приходить на зимовку ранее, чтобы не упустить сенокосное время. Прежде, когда киргизы не косили сена, им незачем было торопиться на зимовки; они могли дольше оставаться на юге, на степных кормах, да и сами летовки были тогда южнее. Теперь с каждым годом и расстояние между летовкой и зимовкой сокращается, и уменьшается также степной сезон.
Дня за два или три до прихода на Серембет Валихановские аулы стали убывать; народ стал уходить на север, ближе к зимовкам, около которых расположены сенокосные луга; когда мы остановились на последнюю стоянку, на другой день в нашем ауле остались одни только три барские юрты, остальные юрты и шалаши с их телегами ушли на сенокосы.
На этой стоянке я познакомился с остальными двумя сыновьями султана Чингиса. Один из них — Махмуд; его аул очутился от нашего аула на расстоянии не более четверти версты. Я сделал ему визит, и мы потом очень часто виделись. Мне было очень приятно с ним познакомиться, так как он прекрасно говорил по-русски. Султан Махмуд кончил курс, как и Чокан, в кадетском корпусе, учился потом немного в Петербурге, служил на военной службе, дослужившись до чина поручика, вышел в отставку и теперь живет в степи, кочует и занимается сельским хозяйством; ни один из Валихановых не имеет такой большой пашни, как он.
Чтобы познакомиться с другим братом — Маке, я должен был съездить в Серембет. Маке нынешним летом отказался кочевать и все лето провел на зимовке. Как только мы пришли на последнюю стоянку, у нас начались частые сношения с Серембетом; люди из нашего аула стали ездить в Серембет, жители Серембета приезжали к нам. Маке давно уже заказывал сказать, что он ждет меня. Якуб пригласил меня поехать с ним вместе, и мы большой компанией верхом на лошадях отправились в гости к Маке.
Ехали почти всю дорогу между березовыми рощами, то по тенистой аллее внутри рощи, то по прогалине между рощами. На прогалинах было уже наставлено много стогов накошенного сена. То вправо, то влево от дороги были видны киргизские усадьбы или зимовки. Мы не успели еще выехать из березовых рощ, как над вершинами берез показалась желтовато-серая верхушка горы Серембет.
Березовые рощи вдруг обрезались, и мы выехали в сухую степь, которая образует подошву Серембетя. Гора перед нами во весь рост от вершины до подошвы. Мы выехали на какую-то укатанную дорогу, по которой, очевидно, немало проехало телег и тарантасов. Это дорога из Пресновской станицы, которая находится на казачьей линии около города Кургана, в город Атбасар, лежащий в центре Киргизской степи. По этой дороге мы быстро домчались до усадьбы султана Чингиса, расположенной под западным мысом горы Серембет.

Усадьба султана Чингиса состоит из большого барского дома с тремя флигелями, амбарами и мечетью. В главном доме зимой помещается султан Чингис с семьей младшего сына Кокуша, во флигелях — Маке, разведенная жена Якуба с его детьми (бывшая сначала женою Чокана) и мулла. Усадьба расположена на открытой площадке, над которой с востока возвышается гора Серембет, покрытая на этой стороне сосновым лесом, с запада большая березовая роща отделяет усадьбу от большого озера, воды которого видны между стволами берез.
Маке верхом на лошади выехал нам навстречу. Его юрта стояла в нескольких саженях от усадьбы, на окраине березовой рощи. Маке получил образование в школе глухонемых в Петербурге на Гороховой улице (он глухонемой), потом служил в разных канцеляриях в Петербурге и Омске (в Петербурге он пробыл всего одиннадцать лет), так что из всех сыновей султана Чингиса это был самый обруселый. Мне говорили, что, когда он наезжает зимой в Кокчетав, в русском клубе его принимают как приятного гостя; его любят там за общительный характер и галантное обращение. К сожалению, я не владею искусством говорить знаками с глухонемыми и потому не мог ближе сойтись с Маке, но когда я ехал из Кокчетава разыскивать аул Валихановых, я думал, что если я с кем из четырех живых братьев заведу наиболее откровенные связи, то это именно с Маке.
Маке недавно овдовел и женился вновь. От прежней жены у него остались хорошенькая девочка и два мальчика. Новая жена — татарка из города Петропавловска или, кажется, киргизка, но выросшая в Петропавловске; кажется, отец ее киргиз, поселившийся в Петропавловске и отатарившийся. Киргизки не прячутся от мужчин и не закрывают лица, а жена Маке все время, пока мы жили в его юрте, не выходила из-за занавески. Иногда Маке отдергивал занавеску, чтобы похвастаться нам ее красою, но она снова ее задергивала.
В юрте Маке мы провели сутки и вернулись в аул султана Чингиса.
Урочище Серембет было пожаловано матери султана Чингиса — ханше Айханым, второй жене последнего киргизского хана Вали, по имени которого и серембетовские помещики называются Валихановыми. В жалованном документе было сказано, что земля эта отдается в бесспорное пользование ханше Айханым с ее потомством и родами Атыгай и Караул. Впоследствии это «бесспорное» владение сама администрация стала оспаривать у Валихановых. Владельцы земли, пользовавшиеся ею более полстолетия, привыкли смотреть на нее как на собственность; местная администрация только в позднейшее время (кажется, в шестидесятых годах) вздумала обсудить, как понимать поземельные права серембетовцев, и решила, что они не собственники, а только имеющие урочище Серембет во временном пользовании.
Пожалование земли в бесспорное пользование ханской семье было сделано в расчете за услуги России, которые ожидались от ханской семьи, и в самом деле, едва ли может быть названа какая-нибудь другая киргизская семья, которая питала бы такие дружественные чувства к русским, как семья султана Чингиса. Сам Чингис Валиевич обучался в русской школе переводчиков в Омске и, следовательно, с детства привык к русским; впоследствии, когда он служил, управлял Кушмурунским округом и занимал должность представителя от киргизского народа при Областном правлении в Омске, он постоянно вел дружбу с самыми интеллигентными русскими чиновниками в Омске, который был центром управления степью,— сначала с чиновником Сотниковым, потом с Гутковскими и Капустиными. Сотников, ориенталист из Казанского университета, влюбился в киргизский народ; каждое лето он приезжал в аул султана Чингиса и в течение нескольких месяцев кочевал вместе с ним по Кушмурунскому округу, жил в киргизской юрте и одевался по-киргизски; по его-то совету Чингис Валиевич отдал своего второго сына, Чокана, учиться в кадетский корпус в Омске. Семейства Капустиных и Гутковских, состоявшие в близком родстве между собою, были центром омской интеллигенции: в этих домах собирались образованные чиновники и молодые офицеры; тут можно было встретить офицера Генерального штаба, художника или чиновника-литератора, ученого путешественника, заехавшего в Омск по дороге в Центральную Азию, или поэта, очутившегося здесь в качестве «невольного странника». Чокан, сын султана Чингиса, был принят в семействе Гутковских как родной сын, и это имело такие последствия, как будто два дома, один русский, Гутковских, и другой киргизский, Валихановых, породнились между собою. Кроме Чокана, султан Чингис дал русское образование еще двум своим сыновьям — Махмуду и Маке; старший сын Якуб не учился в русской школе, но он говорил по-русски, служил на выборных должностях и тоже до известной степени обрусел; только один Кокуш остался не затронутым русским влиянием. Словом, Валихановы одно из самых русифицированных киргизских семейств. К перечисленным членам этого дома нужно еще присоединить Мусу Чорманова, дядю Чокана по матери, т. е. брата первой жены султана Чингиса. Муса Чорманов, теперь уже умерший, подобно султану Чингису, долго состоял на русской службе то как управитель целого киргизского округа (Баян-Аульского), то как представитель от киргизского народа при Омском областном правлении. Он был известен в Омске как человек врожденного ума и знаток киргизской жизни. В течение не менее полувека омская администрация пользовалась советами и влиянием на степное население этих трех лиц: султана Чингиса, его сына Чокана и его свояка Мусы Чорманова как самых сведущих в степных обычаях людей. В архивах омских канцелярий, вероятно, найдется немало трактатов и записок о киргизском хозяйстве или о киргизских судебных порядках и т. п., составленных Чоканом по собранным им лично данным или написанных под диктовку Мусы или султана Чингиса. С одной стороны, члены семейства Валиханова были незаменимыми помощниками местных администраторов в управлении областью, с другой — пример этого семейства, преданного русским интересам, не оставался без влияния на верхний класс степного населения, на класс султанов, биев и богатых людей. Особенно же влиятелен был для степи пример Чокана Валиханова. Это был небывалый феномен — киргизский юноша, офицер, принадлежавший к свите генерал-губернатора, принятый в высшем кругу в местной столице Омске, мало того, пользовавшийся в местном русском обществе репутацией человека с блестящими умственными способностями и благородным направлением мыслей. Чокан придал такой блеск имени Валихановых, что и другие валиханиды, не называвшиеся Валихановыми, получившие свои фамильные прозвища не по имени хана Вали, а по именам его сыновей, стали потом добиваться замены их негромких фамилий славным именем Валихановых. В среде ближайших родственников Чокана память о нем хранится как о добром семейном гении. И теперь еще существует духовное наследство, оставленное Чоканом в родной семье; он показал им, какого тонкого судью человеческих поступков вырабатывает европейская культура. Чокан был киргизский патриот, но в то же время он был и патриот русский, и, если бы из киргизского народа было вызвано поболее Чоканов, связи той части киргизского народа, которая заправляет киргизскою жизнью, с русским обществом были бы прочнее. Если в среде киргизов и найдутся лица, которые могут быть поставлены по их заслугам русской жизнью рядом со старшими членами семейства Валихановых: с султаном Чингисом или Мусою Чормановым, то не найдется ни одного, за которым возможно было бы признать значение, равное Чокану.
Такое общественное значение серембетовских владельцев усложняет решение серембетовского вопроса. Пусть Валихановы уже бесполезны для русских целей, все же решение вопроса о землях Серембетовского урочища будет иметь значение доброго или дурного прецедента для киргизов в будущем.
Поземельные отношения урочища Серембет в настоящем их виде довольно странны и запутаны. Это не собственность, но и не общинная земля. Урочище находится в пользовании у трех классов людей; на нем сидят, во-первых, султанские дети, сыновья, внуки и племянники султана Чингиса; во-вторых, бывшие тюленгуты, т. е. бывшие их рабы или крепостные, и, в-третьих, свободные люди родов атыгай и караул; всего, кажется, до пятидесяти отдельных хозяйств. Не то это общинная земля, находящаяся в пользовании общины, в состав которой вопреки обычному порядку входят и султанские дети, т. е. дворяне, что-то вроде всесословной волости, не то поместье, куда помещиком пропущены и простые люди. Не знаю, есть ли в Киргизской степи еще другой участок в таких же условиях пользования.
Отношения эти усложняются еще тем, что один из сыновей султана Чингиса, Махмуд, по соглашению с другими серембетовцами выделился, и в его пользование вырезан особый участок земли; кроме того, омская администрация, вернее бывший генерал-губернатор Колпаковский, желая, вероятно, сгладить неприятное впечатление решения вопроса о Серембете не в смысле потомственной собственности, возбудил ходатайство о наделении султана Чингиса в потомственное владение двумя тысячами десятин земли из того же Серембетовского урочища. Пестрота еще более увеличится, когда местная администрация приведет в исполнение свое предложение основать русский поселок в самом центре серембетовской территории, местности Акбас, где находится зимовка Якуба. Теперь этот вопрос о распространении русской колонизации на урочище Серембет волнует Валихановых. Они говорят: «Мы не против основания поселка в будущем, но желали бы, чтобы нам дали несколько лет обдумать новое наше положение и приготовиться к надвигающимся условиям жизни».
Мы вовсе не намерены настаивать на признании Валихановых потомственными владельцами Серембета; такая раздача земель в частные руки будет непредусмотрительностью, вредною для того же киргизского народа. Но нельзя и легкомысленно отнестись к этому вопросу ввиду тех влияний, которые совершаются рядом. На землях, некогда принадлежащих киргизам, поселены сибирские и оренбургские казаки; из бывших киргизских земель нарезаны наделы казачьим станицам, а также и участки казачьим офицерам, хорунжим и сотникам по 600 десятин, а генералам и значительно более. Затем офицерам предоставлено право свои участки продавать. Пользуясь этим, как мы слышали, купцы в пределах Оренбургского войска скупают офицерские земли и создают таким образом крупные поместья; в особенности много скупил таких земель какой-то уфимский или казанский татарин. Если это правда, то как же так? Киргизский султан, предки которого жили на этой земле еще до прихода русских, султан, услуги которого, оказанные русскому государству, бесспорны, обойден в праве получить участок в собственность, а казачий офицер, об услугах которого ничего не известно, который, может быть, служил заурядно, под боком заслуженного султана, получает земельный участок в потомственную собственность.
Вид султанской усадьбы не произвел на меня приятного впечатления. Во-первых, нет около усадьбы огорода; это лишает картину домовитости, точно это почтовая станция, а не усадьба. Кто проезжал по Башкирии, тому припомнились бы недомовитые усадьбы башкир, которые тоже у человека, привыкшего к картинам оседлости, вызывают гнетущее чувство, следующее всегда за сознанием, что вы стоите перед вымирающим народом. Эти султанские дома и флигеля, стоящие в степи без заборов или с повалившимися заборами, с рассыпавшимися воротами, заставляют нас спрашивать себя: неужели и киргизский народ ждет та же участь, какая постигла башкир, т. е. участь угасающего племени?
Другое обстоятельство, над которым приходится задуматься, — это то предпочтительное положение, которое в султанских усадьбах оказывается мусульманскому обучению детей. В Серембетовской усадьбе живет мулла; для него и для его школы построен особый дом. Конечно, все это вполне естественно, но хотелось бы, чтобы султаны и вообще «влиятельные люди» из киргизов наряду с муллой приглашали бы для обучения своих детей и русских учителей. Чуть ли это не общее явление в степи — умный и способный киргиз начинает служить, по делам службы ему часто приходится бывать в русском городе, даже целыми годами жить в нем, и он усваивает европейские привычки, вкусы и даже некоторые из наших идей, потом он становится стар, прекращает службу, удаляется в степь, связи с русским обществом порываются, а тут еще появляется мысль о близкой смерти; личные земные интересы, может быть, и остаются в прежней силе, но энергия к общественным интересам ослабевает, и человек попадает под влияние народных вкусов.
Мусульманско-клерикальное направление с каждым годом усиливается в степи. Отдельные киргизские семейства или лица, вначале подчинившиеся русскому влиянию, наконец поддаются и поглощаются общим течением. Несколько десятков лет назад положение дел, может быть, было благоприятнее для проникания европейских идей в киргизскую среду. Мулл из киргизов было мало; большею частью это были казанские татары, свои киргизские муллы если и были, то это были ученики казанских мулл. Теперь это изменилось: с завоеванием Туркестана молодые люди из киргизов стали уезжать в «святую» Бухару; они изучают там персидский и арабский языки и мусульманский закон и, возвратившись на родину, становятся муллами. Бухарские богословы известны своим фанатизмом; их ученики распространяют в киргизском народе ханжество, отвращение к европейской науке и щеголяние персидскими и арабскими фразами; молодые люди в султанских семьях любят в многолюдном обществе пустить пыль в глаза, выпалив одну или две персидские фразы, из которых чаще всего и состоит весь их арсенал. Персидско-арабская культура проникает и в жизнь; иногда даже слуги на голос барина отвечают: «Готово, сейчас!» не на киргизском, а на арабском языке. А если есть киргизы, познакомившиеся с персидским или арабским языками как следует, то и тогда изучение этих языков не имеет других целей, кроме тщеславия и расчета на звание ученого человека; здорового воспитательного значения в этом изучении нет.
Рядом с этим растущим в ширь и в глубь киргизского народа клерикальным влиянием русское, т. е. светское культурное влияние ограничивается одной внешностью — поярковыми шляпами, жилетами, галстуками, пиджаками и узкими панталонами, самоварами, керосиновыми лампами, тарантасами; в духовную жизнь народа оно почти не проникает.
Да оно и понятно. Русская наука, русская история, русская литература и вообще русское умственное движение мало трогают сердце киргиза. Торжествующим средством в борьбе с мусульманским клерикализмом может быть только свое киргизское светское направление; чтобы оно появилось, нужно возбудить в верхних слоях киргизского народа интерес к своей народности, интерес к изучению своего родного, своей истории, своих обычаев, своих устных памятников старины. Пока интерес к киргизской народности пробужден только у ориенталистов, этнографов, фольклористов, но они занимаются изучением киргизской народности только для пополнения европейского знания, а вовсе не в целях пробуждения самосознания киргизского народа. Пожалуй, есть отдельные личные симпатии к самому киргизскому народу независимо от интересов науки, но они не сплочены в организацию и потому безрезультатны в данном случае.
Число образованных киргизов, кончивших курс в высших учебных заведениях, с каждым годом увеличивается; к сожалению, по окончании курса молодые люди не образуют живущей в одном месте колонии, а рассыпаются по обширной киргизской территории или, что еще более невыгодно для киргизского народа, остаются служить в Европейской России, на Кавказе, в Одессе и т. п. Нет пока у киргизов умственного центра, где могла бы завязаться духовная жизнь киргизской интеллигенции, где бы ее члены могли работать сообща, друг другу помогая примером и советом, где киргиз-юрист или киргиз-доктор мог бы встречаться с киргизом-художником, киргизом-литератором или с киргизом-ученым. Правда, между молодыми киргизами нет ни одного, которого можно было бы поставить в уровень с покойным Чоканом Валихановым; Чокан с либеральным образом мыслей и свободомыслием в религиозных вопросах соединял искреннюю любовь к своему народу и мечтал о служении ему. Но, уступая Чокану в воодушевлении народными интересами и умственных способностях, молодые люди, если бы собрались в кучку, могли бы, может быть, еще больше сделать, чем один человек. Некому только сплотить их, нет протектора просветительным стремлениям киргизской интеллигенции.
Часть этой просветительной миссии как будто выполняется администрацией, но если ею и делается что-нибудь в этом роде: устраиваются школы, издается газета на киргизском языке, то все это ограничивается формальным отношением к предприятию, и в основе такой деятельности лежат узко утилитарные цели, а не пробуждение в народе духовной жизни. Конечно, администрации некогда заниматься этим, и для успешного исполнения ее прямых обязанностей лучше освободить ее совсем от подобной задачи.
Покровительство, о котором мы говорим, должно быть организовано в среде образованного русского общества, конечно, местного. Для русского общества неудобно оставить целый край без влияния русского просвещения, которое прочным и продолжительным может быть только в том случае, если степь будет покрыта системой народных светских школ. С этими школами народится в степи класс людей, дружелюбно относящихся к формам европейской жизни и доверчиво к выводам европейской науки, и тогда, если не совсем сделаются невозможными, то станут реже отступления русифицированных семейств, как это замечается теперь. В настоящее время устарелый человек оставляет службу и вместе с тем русское общество, удаляется в степь и неизбежно подчиняется народным вкусам, а направление народным вкусам и мыслям дают люди более молодого поколения, набравшиеся мудрости в Бухаре; в недрах же самого народа нет среды, которая противодействовала бы крайностям бухарского влияния.
Во многих городах Западной Сибири основаны общества попечения о народном образовании; такое общество необходимо было бы устроить и в Киргизской степи, его задачей было бы заботиться об учреждении народных школ, устройстве народных чтений, издании народных книжек, а также о переводе для киргизской интеллигенции произведений русской и европейской литератур и беллетристики. Мне рассказывали об одном киргизском султане (уже умершем Уськенбаеве), который кончил курс в Омском кадетском корпусе и потом жил на родине в степи около Семипалатинска, что он любил вечерами рассказывать своим землякам содержание русских повестей и романов, и киргизы с таким интересом его слушали, что просили записать его свои рассказы; таким образом, получились тетради, написанные по-киргизски и содержащие в себе вольный перевод произведений Тургенева, Лермонтова, Толстого и др. Иногда во время этих литературных вечеров в юрте киргизы пускались в суждения, и тогда, как рассказывал очевидец, можно было слышать, как Уськенбаев пользовался русскими авторитетами: «Послушайте, а вот что об этом говорит известный русский критик Белинский», или «Вот какого мнения об этом был русский критик Добролюбов!» Если бы нашлась искусная рука, которая облегчила бы киргизским читателям эти открытия, вкус молодых султанов к персидским и арабским виршам значительно бы уменьшился.
Можно предвидеть, что скоро народится «молодая Киргизия». Чем она обогатит свой народ, в каком направлении будет работать ее мысль, какие продукты создаст ее ум и ее чувства, чем она поделится с русским обществом в области науки и искусства? Можно предугадать, что киргизская народность, подобно малорусской и польской, даст двуязычных писателей, которые будут писать и на киргизском, и на русском языках.
Многие черты характера этого молодого народа очень симпатичны и не дают повода думать, чтобы иссушающее народную жизнь мусульманско-клерикальное направление и увлечение персидскими виршами отвечали его духу. Это какое-то недоразумение жизни. Духовное наследство киргизского народа достаточно для того, чтобы киргизская жизнь нашла в нем поддержку и не иссякла бы под сирокко мусульманского клерикализма, подобно тому, как усыхают воды и почва степи под действием сухих ветров из Центральной Азии. Киргизы — народ живой, здоровый, жаждущий жизни; они любят веселье, в костюме любят яркие цвета, в жизни — праздники. Поминки по умершим у этого народа превращаются в продолжительные и грандиозные торжества с играми, скачками, песнями, состязаниями, исполнением песен и лирическим творчеством. Состязания в артистическом искусстве и нарядах воспитывают, может быть, в киргизах некоторую долю тщеславия, что делает их похожими на французов. Подобно афинянам, киргизы необычайно любят новости (хабары); это страсть, которая в молодом поколении заменяется любознательностью.
Чокан Валиханов любил выставлять на вид, что киргизы — народ пастухов. «Это, — говорил он, — выразилось и в их одеянии, и в военном оружии, которое состоит из суилов, т. е. шестов с петлями, с помощью которых ловят лошадей». Киргизская жизнь слагается из пасторалей; любимая повесть, которую знает вся степь от Оренбурга до Зайсана, верх киргизской эпики, это история красавицы Баян-сулу, которая влюбилась в бедного пастуха Козу-курпеша, не могла перенести гибели любимого человека и покончила с собой на его могиле; на этой могиле выросли два дерева, которые протягивают друг другу свои ветви; это погибшие любовники, которые и после смерти продолжают любить друг друга; между любовниками колючий куст — это разлучник, который при жизни помешал счастью любовников и теперь еще продолжает мешать их замогильному соединению. Сюжет международный, по ни одна народность не сделала его таким выдающимся пунктом в своей эпике, как киргизы. Не менее трогательны и человечны другие киргизские легенды, например, легенда, которая объясняет, почему одна из киргизских рек называется Атасу (Слезы отца). Девушка полюбила пастуха, но богатый отец не захотел отдать дочь за своего бедного работника; молодые бежали, отец пустился догонять их и, когда приблизился к ним на выстрел, вынул лук, наложил на него стрелу. Женщина, заметив, что любимому ею человеку угрожает опасность, заслонила его своим телом; стрела поразила ее. Отец нашел на земле только бездыханное тело и оплакал свое горе; его обильные слезы образовали целую реку, которая и теперь называется «Слезы отца». Подобные примеры самоотверженной женской любви, хотя и не такие, быть может, героические, и теперь бывают в степи. В шестидесятых годах, во время управления степью Гутковского омское общество было сильно заинтересовано историей одной любовной парочки, бежавшей в Омск под защиту русских властей чуть ли не с озера Зайсан.
Сердечность киргизского народа рисуется также обычаем заключать братские союзы; такие друзья называются «тамырами». У тамыра для тамыра нет ни в чем отказа, какой бы он ценный подарок ни просил. Киргизское сердце хотело бы далее сделать чувство дружбы наследственным; дети двух тамыров не забывают о духовном родстве своих отцов; тамыр, отец невесты, называет сына своего тамыра окульгуяу — зятем. Рассказом о двух таких тамырах и начинается киргизская повесть об идеальной женской любви красавицы Баян-сулу. Отец ее Сарыбай и отец ее любовника Козу-курпеша были тамыры, друзья на жизнь и на смерть. Сарыбай однажды выехал на охоту; в то же самое время и Карабаю вздумалось поохотиться. Случайно они выехали на одно и тоже поле, и, завидев самку оленя, но не замечая друг друга, стали съезжаться и скрадывать дичь; приблизившись к ней, Сарымбай заметил, что оленуха беременна, и вспомнил, что его оставленная жена тоже беременна; в нем шевельнулось чувство отца, он пожалел бедное животное. Но то же самое чувство испытал и Карабай, потому что и его жена была беременна. Оба охотника поднялись и тут только увидели друг друга и узнали, что они целились в одну и ту же дичь. Они порешили, что, если их ожидаемые дети будут одного пола, они сделают их тамырами, а если разных, то женят их. У Сарымбая родилась дочь Баян-сулу, у Карабая сын Козу-курпеш.
Высокое понятие о поэтическом творчестве выразилось у киргизов в легенде о происхождении песни. Легенда рассказывает, что некогда, именно в те отдаленные времена, когда люди еще не умели петь, песня (конечно, существо небесного происхождения) летала над землей и пела; где она пролетала низко, люди хорошо расслышали ее и переняли ее песни; где высоко, там плохо были слышны ее песни, и народы, населяющие эти земли, остались немузыкальными. Над киргизской степью песня пролетала ниже, чем над какой другой страной, и поэтому киргизы — лучшие певцы в мире. Обездоленные монголы, добавляет другое предание, позавидовали счастливым киргизам и решил выкрасть у них дар богов, искусство пения; они выбрали ловкого молодого человека и послали его туда, где стоял киргизский аул; он должен был украдкой подойти к аулу, спрятаться за скалой, подслушать, как поют киргизы, и перенять мотивы. Юноша подошел к месту, спрятался и стал ждать вечера, когда в ауле начнется пение; но аула в это время тут уже не было, он откочевал, осталась на пепелище одна старая и хромая собака, которая была не в состоянии уйти за аулом. Когда наступил вечер, собака начала выть от голода. Монгольский юноша услышал эту серенаду, подумал, что это и есть киргизское пение, запомнил его и научил ему своих сородичей. Вот почему монгольские песни и походят на вой волков.
Может быть, о том же воззрении на поэзию, как на примиряющий с жизнью элемент, свидетельствует и киргизское предание о первом киргизском шамане Куркуте, который, как есть некоторые основания думать, считался по преданию первым киргизским поэтом. Он однажды увидел сон: какие-то люди роют могилу и на его вопрос, что они делают, они отвечали, что роют могилу для Куркута. Он бежал на северный край света и думал там спастись от смерти. Но и там увидел тот же сон. Потом он побежал на южный край света, на восточный, на западный, и везде его преследовал один и тот же сон. Тогда он убедился, что от смерти не уйти, примирился с этим роковым фактом, возвратился на родину, в киргизскую степь, и здесь, усевшись на разостланный ковер, начал играть на балалайке и играл и пел до самой смерти. В этой легенде киргизский народ, может быть, выразил мысль, что только искусство красит жизнь и удаляет от нас преждевременно появляющиеся мрачные призраки.
Между киргизскими певцами есть виртуозы в исполнении, которые умеют придать пению выразительность; это не простое пение, а пение с отделкой, артистическое. Киргизский народ потрудился над обработкой своей песни, и потому она вышла такая оригинальная, что при звуках ее сейчас же переносишься в своеобразную киргизскую обстановку; начинаешь воображать себя в разгоряченном воздухе киргизской степи, среди киргизского пейзажа и даже начинаешь чувствовать ароматы степных трав,— так и несет запахом полыни.
Вообще черты, которыми обрисовывается духовный облик киргизской народности, как будто говорят, что период увлечений клерикальной персидско-арабской мудростью не может быть продолжительным, и что вкус к ней, как выше уже замечено, совсем не соответствует духовной организации киргизов, которые не похожи в этом отношении на своих соседей, на монгольскую народность, обезличенную чуждым церковным влиянием. Превосходно выразилась разница в духовной организации этих двух народностей в двух типических фигурах: фигуре праздношатающегося из монгольского народа и фигура праздношатающегося из киргизского. Странник-монгол – это «батырчи», т.е. лама – паломник, странствующий монах, а иногда и светский человек, но все-таки богомолец, шляющийся из монастыря в монастырь для поклонения святыням. Он плетется пешком из аула в аул и питается подаянием; на спине он несет узел, в котором связана его походная палатка и уложена его чашка для приема милостыни, так называемая «батыр» или «бадир», откуда и термин «батырчи»; он идет по степи, подпираясь двумя костылями. И когда он останавливается среди степи, у какой-нибудь воды, посохи свои втыкает в землю, растягивает на них свою палатку и садится перед ее дверями, поставив перед собою свою чашку для приема милостыни. Руками он перебирает четки, устами шепчет молитву. Так он переходит от одного отдаленного монастыря к другому. По дороге он заходит в аулы и сообщает новости, которые он слышал дорогой, рассказывает о чудесах, которые он видел в монастырях, и передает легенды о подвигах святых. Совсем в другом роде киргизский странник. Это молодой человек, «джигит», сидящий верхом на быке и переезжающий бесцельно из аула в аул; таких фланеров киргизы называют «джолоучи», от слова «джол» — дорога; по-русски это будет странник или путешественник. В руках у молодого человека не четки, а балалайка; он едет и наигрывает киргизские мелодии или импровизирует песню. Приехав в аул, он подсаживается к трапезе; его накормят, а он за это расскажет новости, «хабар», которые слышал в дороге, и споет песню под звуки балалайки. Угостившись и забрав новый запас новостей, он отправляется в следующий аул. Одно и то же явление в основе — и там и тут «гулящий человек», праздношатающийся, старающийся убить время, ищущий развлечений в смене картин и общества, в собирании и сообщении новостей, но какое различие в ситуации, какая разница в подробностях рисунка!
Неужели этот народ, который так любит жизнь и который умеет украсить ее искусством при своих варварски бедных средствах, не найдет в себе достаточно сил, чтобы не дать себя опутать той сетью, которую набрасывает на него мулла? Народ, который в песне видит откровение Божие, имеет право жить и творить. В его похоронных и свадебных обрядах, и судебных обычаях столь много особенного, указывающего на сложную жизнь, прожитую киргизским народом, в преданиях, народной эпике, в чертах народного характера так много оригинального, что в этом историческом наследстве, которое может доставить большой материал ученым для изучения, киргизская жизнь найдет впоследствии элементы для развития в более здоровом направлении. Пусть почва степей усыхает, пусть природа окажется бессильною в борьбе с надвигающимся веянием пустыни, для киргизской жизни есть обильный источник сил и средств в духовном организме народа, если только сами киргизы от него не отвернутся.

Вернувшись из Серембетя в аул султана Чингиса, я должен был собраться в обратный путь. Наступил день расставания. Для нас с султаном Султан-Газиным приготовили троечный тарантас, который должен был доставить нас в ближайшее русское селение, в Кривоозерный поселок. Когда все было готово к отъезду, я вошел в юрту султана Чингиса проститься с ним. Чингис Валиевич встал с своего места, взял меня за бороду, и мы поцеловались. Вероятно, по-киргизски это был знак особенного дружелюбия. В моем лице он хотел обласкать друга сына Чокана, с которым я находился в товарищеских отношениях. Одно из самых дорогих воспоминаний в семье Валихановых, конечно, воспоминание о Чокане, который не только был украшением этой семьи, но, несомненно, должен считаться самой лучшей личностью, вышедшей до сих пор из киргизского народа. Замечу еще раз, что в сердце Чокана любовь к своему народу соединялась с русским патриотизмом; в шестидесятых годах общерусский патриотизм не отрицал местного областного и инородческого, и два патриотизма, общий и частный, легко уживались в одном человеке. В жизни Чокана, если бы она была описана, нашлись бы указания, что нужно сделать для того, чтобы водворить и распространить русские идеи в киргизском народе.


Судьба отмерила друзьям неодинаковый жизненный путь: Потанин прожил долгую жизнь, Валиханов умер в самом расцвете сил, но их творческий и духовный контакт вечен. «Чокан Валиханов принадлежит к числу тех исключительных натур, которые, как метеор, являются в наш мир только на короткий срок, чтобы своей оригинальностью скрасить жизнь… Он имел нежное сердце и острый ум»,— писал о своем друге Чокане Григорий Николаевич Потанин. Денис Толкачев, преподаватель истории и обществознания, написал, что «Дружба замечательных представителей двух народов – Г.Н. Потанина и Ч.Ч. Валиханова — явилась примером того, как союз просвещенного казаха со свободомыслящим русским интеллигентом способствовал изучению казахской народности «не только для пополнения европейского знания, но и в целях пробуждения самосознания казахского народа». На примере такой дружбы длиною в жизнь мы обязаны воспитывать подрастающее поколение, молодежь наших стран. Это особенно актуально в наши времена, когда понятиям дружбы, патриотизма, солидарности народов стали вновь уделять большое внимание в наших многонациональных государствах в противовес западным «ценностям» либерально-глобалистских трендов развития общества.
Продолжение следует